Война
без купюр
Как выжили на фронте и в тылу первые калининградские переселенцы и какие ужасы
войны прячут за тапками с георгиевской
ленточкой
войны прячут за тапками с георгиевской
ленточкой
Перед 9 Мая всего за пять тысяч рублей калининградские умельцы могут слепить из вашего автомобиля картонное подобие уродливого танка неизвестного типа с фаллическим символом вместо ствола впереди. Всего за тысячу те же умельцы на том же «танке» могут написать «На Берлин!» и нарисовать несколько звёздочек, символизирующих победы экипажа «танка»,
а также прилепить картинки дырок от пуль.
Если это для вас дорого, то на Центральном рынке вы сможете задёшево купить пилотку образца 1919 года с красной звездой, а в продуктовых магазинах вам предложат широкий выбор «гвардейских», «трофейных», «стрелковых», «фронтовых» и всяких других спиртных напитков. А ещё есть украшенные георгиевскими лентами тапки с изображением советских солдат, колбасы, украшенные георгиевскими ленточками, и весёлые реконструкции, в которых наши красиво мочат немцев, в конце концов сдающихся со счастливым смехом. Никому не отрывает голову, никто не перекусывает врагу кадык в рукопашной, и никто не зовёт на русском или немецком маму, пытаясь засунуть себе обратно во вспоротый штыком живот выпавшие кишки...
И как апофеоз отмечания праздника День Победы — надпись «1941–1945. Можем повторить», украшенная «задорной» картинкой: человечек со звездой вместо головы ставит в недвусмысленную позу другого человечка, со свастикой вместо головы.
К счастью, я не знаю, какой была та война. Но я знаю, что она была другой. Совсем не глянцевой, не бутафорской, не маскарадной.
В 1991 году группа молодых историков Калининградского государственного университета под руководством Юрия Костяшова начала работу над новым,
как сказали бы сейчас, проектом. Историки записали большое количество интервью с первыми советскими переселенцами, приехавшими осваивать новую, трофейную, советскую область — бывшую Восточную Пруссию. Эти воспоминания вошли в книгу «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев». Опрошенные рассказывали в том числе о своей жизни во время войны. Часть этих воспоминаний публикуется сегодня впервые.
Как рассказали «Клопс» участники проекта, интервью принципиально подвергались минимальной редакторской обработке. Иногда в ущерб правилам и стандартам русского языка. Для учёных было важно донести не только то,
что рассказывали переселенцы, но и то, как они рассказывали. Все тексты заверялись подписями интервьюируемых и печатями. Часть была записана
на магнитофон.
Сегодня эти материалы хранятся в фондах Государственного архива Калининградской области. С разрешения профессора Юрия Костяшова «Клопс» публикует несколько фрагментов.
Чтобы те, кто лепит на свои авто это «Можем повторить», знали, что именно мы можем повторить и символом какой именно Победы (Победы, а не колбасы) являются красные звёзды на бутафорских пилотках.
а также прилепить картинки дырок от пуль.
Если это для вас дорого, то на Центральном рынке вы сможете задёшево купить пилотку образца 1919 года с красной звездой, а в продуктовых магазинах вам предложат широкий выбор «гвардейских», «трофейных», «стрелковых», «фронтовых» и всяких других спиртных напитков. А ещё есть украшенные георгиевскими лентами тапки с изображением советских солдат, колбасы, украшенные георгиевскими ленточками, и весёлые реконструкции, в которых наши красиво мочат немцев, в конце концов сдающихся со счастливым смехом. Никому не отрывает голову, никто не перекусывает врагу кадык в рукопашной, и никто не зовёт на русском или немецком маму, пытаясь засунуть себе обратно во вспоротый штыком живот выпавшие кишки...
И как апофеоз отмечания праздника День Победы — надпись «1941–1945. Можем повторить», украшенная «задорной» картинкой: человечек со звездой вместо головы ставит в недвусмысленную позу другого человечка, со свастикой вместо головы.
К счастью, я не знаю, какой была та война. Но я знаю, что она была другой. Совсем не глянцевой, не бутафорской, не маскарадной.
В 1991 году группа молодых историков Калининградского государственного университета под руководством Юрия Костяшова начала работу над новым,
как сказали бы сейчас, проектом. Историки записали большое количество интервью с первыми советскими переселенцами, приехавшими осваивать новую, трофейную, советскую область — бывшую Восточную Пруссию. Эти воспоминания вошли в книгу «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев». Опрошенные рассказывали в том числе о своей жизни во время войны. Часть этих воспоминаний публикуется сегодня впервые.
Как рассказали «Клопс» участники проекта, интервью принципиально подвергались минимальной редакторской обработке. Иногда в ущерб правилам и стандартам русского языка. Для учёных было важно донести не только то,
что рассказывали переселенцы, но и то, как они рассказывали. Все тексты заверялись подписями интервьюируемых и печатями. Часть была записана
на магнитофон.
Сегодня эти материалы хранятся в фондах Государственного архива Калининградской области. С разрешения профессора Юрия Костяшова «Клопс» публикует несколько фрагментов.
Чтобы те, кто лепит на свои авто это «Можем повторить», знали, что именно мы можем повторить и символом какой именно Победы (Победы, а не колбасы) являются красные звёзды на бутафорских пилотках.
Александр Яковлевич Миккельсон, Советск
«Всё это происходило открыто и не стесняясь»
«Я родился в Восточной Пруссии, в 1909 году. По национальности — латыш.
В Пруссии мы жили хорошо. Но с 1938 года нас, представителей других национальностей, начали притеснять. На рынке немцы не покупали у нас продукты, в магазинах нам не продавали товары. Перестали принимать свиней и овец. Стали брать налог с латышей и куршей (представители западнобалтийской народности, на территории современной Калининградской области компактно проживали на Куршской косе — прим. авт.) больший, чем с немцев. Ходили слухи, что убивают евреев.
Бывали случаи, когда молодые парни-немцы поджигали амбары, обзывали нас свиньями, рабами и обещали всех вздёрнуть.
В начале 1939 года я списался со своими родственниками в Латвии. Они звали
к себе. Я обратился в городское управление по поводу переезда. Мне разрешили уехать, но при условии: я должен оставить им свой хутор. Я согласился. В июне 1939 года я поселился в Латвии, на хуторе Пуни Талсинского уезда. А в 1940-м
в Латвию пришли советские войска. Мне опять пришлось менять паспорт.
Немцы вошли в Латвию без особого сопротивления. Начался опять обмен паспортов. Первые дни оккупации грабили, но потом успокоились. Я сам не видел, но многие говорили, что в лесу есть партизаны. После нескольких диверсий комендант уезда объявил, что за связь с партизанами и за подозрение в связи с партизанами — расстрел. Соседний хутор за связь с партизанами (прятали раненого) сожгли дотла и всех жителей расстреляли.
Но были и другие случаи: пьяный немецкий офицер застрелил девочку-латышку. Её мать пожаловалась коменданту. Офицер куда-то исчез, а матери выплатили компенсацию.
В Вольдемарпилс свозили евреев — от стариков до грудных детей —
и расстреливали за городом. Всё это происходило открыто и не скрываясь.
В 1944 году я косил сено, а из травы поднялись два парашютиста с автоматами. Это были советские парашютисты, один русский, второй латыш. Латыш сказал, что я должен им помочь, иначе меня расстреляют, а после войны они расстреляют всю мою семью. Я им помогал неделю. Носил еду. Через неделю они ушли. После войны всё взрослое население уезда свозили в тюрьму
в Вальдемарпилс для проверки. Меня тоже привезли. Но там меня узнал тот русский парашютист, и меня отпустили. Я уехал в Калининградскую область...»
В Пруссии мы жили хорошо. Но с 1938 года нас, представителей других национальностей, начали притеснять. На рынке немцы не покупали у нас продукты, в магазинах нам не продавали товары. Перестали принимать свиней и овец. Стали брать налог с латышей и куршей (представители западнобалтийской народности, на территории современной Калининградской области компактно проживали на Куршской косе — прим. авт.) больший, чем с немцев. Ходили слухи, что убивают евреев.
Бывали случаи, когда молодые парни-немцы поджигали амбары, обзывали нас свиньями, рабами и обещали всех вздёрнуть.
В начале 1939 года я списался со своими родственниками в Латвии. Они звали
к себе. Я обратился в городское управление по поводу переезда. Мне разрешили уехать, но при условии: я должен оставить им свой хутор. Я согласился. В июне 1939 года я поселился в Латвии, на хуторе Пуни Талсинского уезда. А в 1940-м
в Латвию пришли советские войска. Мне опять пришлось менять паспорт.
Немцы вошли в Латвию без особого сопротивления. Начался опять обмен паспортов. Первые дни оккупации грабили, но потом успокоились. Я сам не видел, но многие говорили, что в лесу есть партизаны. После нескольких диверсий комендант уезда объявил, что за связь с партизанами и за подозрение в связи с партизанами — расстрел. Соседний хутор за связь с партизанами (прятали раненого) сожгли дотла и всех жителей расстреляли.
Но были и другие случаи: пьяный немецкий офицер застрелил девочку-латышку. Её мать пожаловалась коменданту. Офицер куда-то исчез, а матери выплатили компенсацию.
В Вольдемарпилс свозили евреев — от стариков до грудных детей —
и расстреливали за городом. Всё это происходило открыто и не скрываясь.
В 1944 году я косил сено, а из травы поднялись два парашютиста с автоматами. Это были советские парашютисты, один русский, второй латыш. Латыш сказал, что я должен им помочь, иначе меня расстреляют, а после войны они расстреляют всю мою семью. Я им помогал неделю. Носил еду. Через неделю они ушли. После войны всё взрослое население уезда свозили в тюрьму
в Вальдемарпилс для проверки. Меня тоже привезли. Но там меня узнал тот русский парашютист, и меня отпустили. Я уехал в Калининградскую область...»
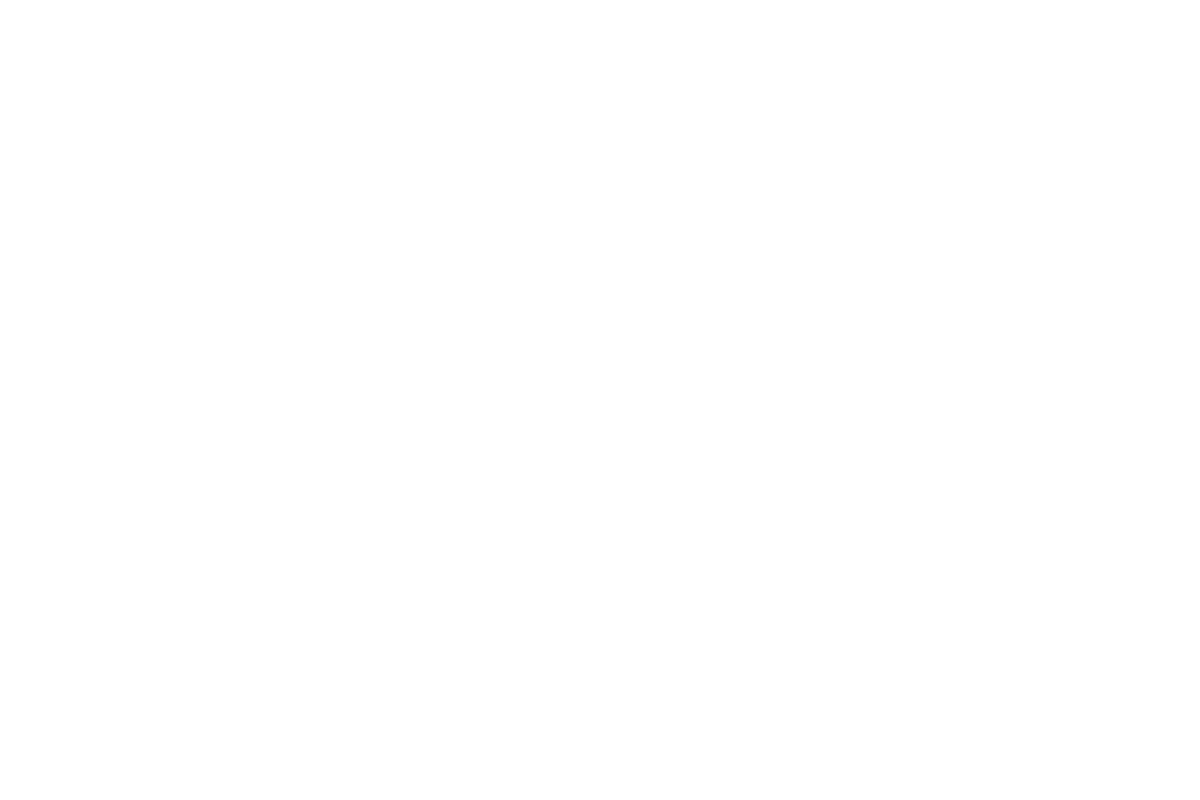
Во время реконструкции операторы снимают офицера СС, высматривающего русских.
Владимир Петрович Филатов, Калининград
На бочках из-под селёдки
«В самом начале войны я попал служить в отдельный зенитный батальон
в Керчи. Командующий армией улетел на самолёте на «большую землю»,
и в войсках началась неразбериха. Офицеры стригли головы «под ноль», переодевались в солдатское обмундирование.
Отступали наши войска в полном беспорядке, группами в 15–30 человек.
Я спросил у одного из офицеров, идущего с солдатами с переправы, что происходит.
Он ответил, что происходит передислокация и что на их место пришли другие воинские части. Вскоре и нам поступила команда к отступлению с приказом: всю технику собрать на берегу Керченского пролива и уничтожить. Я снял со своей машины покрышки, вынул из них камеры, на дисках спустил машину
к воде и поджёг...
Весь берег Керченского полуострова в мае 1942-го представлял следующее: везде стояли не уничтоженные нашими солдатами машины с продуктами, боеприпасами, много было брошено артиллерийских орудий. Немцы практически не стреляли по отступавшим, только бросали листовки с предложением сдаваться, а если нет — то «буль-буль».
Наши бойцы переправлялись через пролив на Таманский полуостров на бочках из-под селёдки, на плотах, на автомобильных камерах, кто на чём мог. Гитлеровские лётчики днём расстреливали всех переправляющихся через пролив. Убитых выбрасывало волнами на берег. Наши санитары оттаскивали их подальше от воды и накрывали рогожей. Было очень тепло, и был страшный трупный запах. Мне и моим товарищам посоветовали плыть ночью, чтобы уцелеть. Я надул воздухом камеры, снятые с моей машины, сделали из них плот. Мы погрузились на него, восемь человек, и ночью отплыли. Походил
по машинам-фургонам, нашёл масло сливочное и сухари. В некоторых машинах навалом лежали пачки денег, красные, «тридцатки». Так они немцам
и достались. Наложил полный котелок сливочного масла, и в вещмешок три килограмма сухарей…»
в Керчи. Командующий армией улетел на самолёте на «большую землю»,
и в войсках началась неразбериха. Офицеры стригли головы «под ноль», переодевались в солдатское обмундирование.
Отступали наши войска в полном беспорядке, группами в 15–30 человек.
Я спросил у одного из офицеров, идущего с солдатами с переправы, что происходит.
Он ответил, что происходит передислокация и что на их место пришли другие воинские части. Вскоре и нам поступила команда к отступлению с приказом: всю технику собрать на берегу Керченского пролива и уничтожить. Я снял со своей машины покрышки, вынул из них камеры, на дисках спустил машину
к воде и поджёг...
Весь берег Керченского полуострова в мае 1942-го представлял следующее: везде стояли не уничтоженные нашими солдатами машины с продуктами, боеприпасами, много было брошено артиллерийских орудий. Немцы практически не стреляли по отступавшим, только бросали листовки с предложением сдаваться, а если нет — то «буль-буль».
Наши бойцы переправлялись через пролив на Таманский полуостров на бочках из-под селёдки, на плотах, на автомобильных камерах, кто на чём мог. Гитлеровские лётчики днём расстреливали всех переправляющихся через пролив. Убитых выбрасывало волнами на берег. Наши санитары оттаскивали их подальше от воды и накрывали рогожей. Было очень тепло, и был страшный трупный запах. Мне и моим товарищам посоветовали плыть ночью, чтобы уцелеть. Я надул воздухом камеры, снятые с моей машины, сделали из них плот. Мы погрузились на него, восемь человек, и ночью отплыли. Походил
по машинам-фургонам, нашёл масло сливочное и сухари. В некоторых машинах навалом лежали пачки денег, красные, «тридцатки». Так они немцам
и достались. Наложил полный котелок сливочного масла, и в вещмешок три килограмма сухарей…»
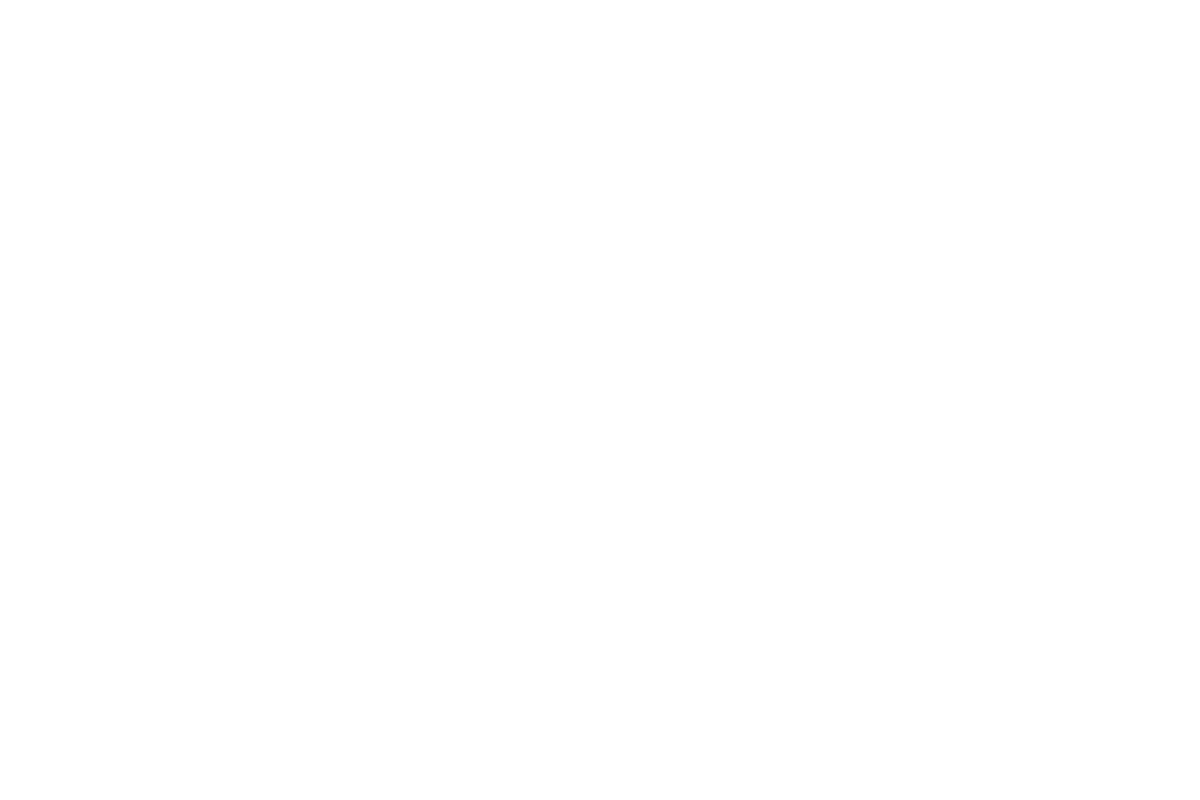
Во время исторической реконструкции штурма Кёнигсберга.
Нина Моисеевна Вавилова, Калининград
«Овчарки были — на два пальца сала»
«Я во время блокады Ленинграда работала на строительстве укреплений: сначала рыла окопы, потом — противотанковый ров вокруг Ладоги. Вывезли нас, женщин, на эти работы восемь тысяч, а вернулось только три тысячи. Немец бомбил сильно. Да и от болезней мёрли. С тех пор у меня ревматизм. Ноги ноют так, что ходить не могу. Спасались собачиной. И соседку-учительницу так вылечила от дистрофии.
Обыкновенные собаки были. Только не дворняги, а овчарки. В Ленинграде была такая школа, где учили собак пробираться к партизанам через заминированные поля. Собака мины-то чует, стороной ползёт. Бывало, конечно, испугается, шарахнется в сторону — и взрыв.
Ой, бедненькие, приползали иной раз на последнем дыхании: медленно-медленно ползёт, а живот весь распорот, кишки за собой волочит, а знает, что донесение за ошейником, надо дойти.
В городе уже и 125 грамм хлеба на карточки не выдавали, нечем было. А жить надо было как-то. Знакомый мужа был инструктором в этой школе, он и приносил собак. Люди-то и кошек, и крыс, и мышей ели. Голод не тётка.
И людоедство было, знаю точно. А этот знакомый мне и говорит: «Ты, Нина, ничего из этого, крыс и мышей, не ешь. Пока твой муж на фронте, я тебя хорошей штукой снабжать буду, не хуже овечки...»
И правда, не хуже овечки. Овчарки были — на два пальца сала. Я поначалу брезговала, отвар сливала, только мясо ела. А потом привыкла, стала и отвар пить. Соседке принесу тёпленького, а она мне: «Нина, что это? Силы так и прибавляются!». Я ей отвечаю: «Пей, пей, это овечка». Она пьёт да нахваливает. Потом, когда она начала вставать, я ей рассказала, что это за «овечка» была.
В блокаду я деток своих похоронила, муж на фронте погиб. Вот горя-то было, думала, не выживу...»
Обыкновенные собаки были. Только не дворняги, а овчарки. В Ленинграде была такая школа, где учили собак пробираться к партизанам через заминированные поля. Собака мины-то чует, стороной ползёт. Бывало, конечно, испугается, шарахнется в сторону — и взрыв.
Ой, бедненькие, приползали иной раз на последнем дыхании: медленно-медленно ползёт, а живот весь распорот, кишки за собой волочит, а знает, что донесение за ошейником, надо дойти.
В городе уже и 125 грамм хлеба на карточки не выдавали, нечем было. А жить надо было как-то. Знакомый мужа был инструктором в этой школе, он и приносил собак. Люди-то и кошек, и крыс, и мышей ели. Голод не тётка.
И людоедство было, знаю точно. А этот знакомый мне и говорит: «Ты, Нина, ничего из этого, крыс и мышей, не ешь. Пока твой муж на фронте, я тебя хорошей штукой снабжать буду, не хуже овечки...»
И правда, не хуже овечки. Овчарки были — на два пальца сала. Я поначалу брезговала, отвар сливала, только мясо ела. А потом привыкла, стала и отвар пить. Соседке принесу тёпленького, а она мне: «Нина, что это? Силы так и прибавляются!». Я ей отвечаю: «Пей, пей, это овечка». Она пьёт да нахваливает. Потом, когда она начала вставать, я ей рассказала, что это за «овечка» была.
В блокаду я деток своих похоронила, муж на фронте погиб. Вот горя-то было, думала, не выживу...»
Алевтина Целовальникова, Калининград
Кило хлеба и литр молока
«Я закончила девять классов, когда началась война. Мы эвакуировались в Шацк Рязанской области. Туда же был эвакуирован и Рязанский пединститут. В годы войны в институт принимали без экзаменов. Учиться было некому — остались одни девушки. У нас на всём факультете училось только два парня. И те с большими ранениями. У одного не было руки, у другого — ноги. Моя мама работала секретарём-машинисткой. На день мы вместе с мамой получали килограмм хлеба и литр молока. На этом и жили…»
Алексей Николаевич Соловьёв, Гурьевск
«Я родился в 19 июля 1927 года. В 1943-м окончил школу фабрично-заводского обучения в городе Соколе. Поехал в Тульскую область по распределению. Работал на маслозаводе рабочим. Мне тогда 15 лет было. Насмотрелся я там «чудес», когда на один трудодень 50 грамм яблок давали.
В месяц моя зарплата была 140–150 рублей. Майка тогда стоила пуд хлеба у спекулянтов, сапоги — тысячу рублей...
В месяц моя зарплата была 140–150 рублей. Майка тогда стоила пуд хлеба у спекулянтов, сапоги — тысячу рублей...
Клавдия Ивановна Чумакина, Калининград
«Народу хотелось посмотреть на казнь»
«Моя мама советскую власть не любила. Даже песни пела: «Сидит Ленин на заборе, держит серп и молоток, а внизу товарищ Сталин вокруг бегает без порток». Перед войной в Москве я закончила десятилетку, получила работу. А потом меня посадили в тюрьму. На четыре месяца. Я ехала в трамвае на работу, и меня столкнули с подножки. Я упала и сильно разбилась. А я же девочка была, не знала, что надо справку брать. Попала в больницу, а на работу опоздала. Тогда же за опоздание на работу в тюрьму сажали. После отсидки я вернулась в Москву. Началась война. Я поступила на краткосрочные курсы медсестёр. После курсов меня отправили в 32-ю паровозную колонну. С ней дошла до Берлина. Насмотрелась всякого. В Польше нам Майданек показывали. Страшно. В Майданеке мы видели, как вешают двух немецких начальников этого лагеря. Мы на поезде ехали в Майданек, а поляки стояли вдоль дороги и руку поднимали, чтобы мы их взяли с собой. Очень много народу хотело посмотреть на казнь.
Две машины стояло, а на них — двое людей. Зачитали приговор. Вначале на польском, потом на русском. Потом этим, на машинах, набросили на шею петли, и машины поехали. А они повисли...»
Две машины стояло, а на них — двое людей. Зачитали приговор. Вначале на польском, потом на русском. Потом этим, на машинах, набросили на шею петли, и машины поехали. А они повисли...»
Ольга Владимировна Полежаева, Калининград
«Непосредственно в боях участия не принимала»
«Я родилась 1 августа 1912 года в Белоруссии. Перед войной жила в городе Вилейко, недалеко от Вильнюса. Мой муж был военнослужащим, у нас был сын. Когда началась война, муж ушёл на фронт, а я с сыном стала эвакуироваться в Мордовию.
Помню, когда наши войска отступали, в Литве по ним стреляли из подвалов. Мы сидели на вокзале, к нам, беженцам, подходили литовцы и говорили: «Что вы тут сидите? Там соль и конфеты дают!». Те, кто выходил из вокзала, больше не возвращались, по-видимому, их убивали. Мы эвакуировались в Мордовию. Я работала на торфяном заводе. Нам каждую неделю выдавали по бутылке спирта, который можно было продать на базаре и купить что-нибудь поесть. В 1942 году сын заболел и умер. В это время вышел приказ Сталина, по которому всех мужчин, служивших радистами, поварами и так далее, должны были заменить женщины. В Туле, в специальном батальоне, меня научили профессии повара. Меня направили в действующую армию. Непосредственно в боях я участия не принимала. Моей задачей было кормить людей. Бывало, готовлю на 400 человек, а их из боя 70 возвращается...»
Помню, когда наши войска отступали, в Литве по ним стреляли из подвалов. Мы сидели на вокзале, к нам, беженцам, подходили литовцы и говорили: «Что вы тут сидите? Там соль и конфеты дают!». Те, кто выходил из вокзала, больше не возвращались, по-видимому, их убивали. Мы эвакуировались в Мордовию. Я работала на торфяном заводе. Нам каждую неделю выдавали по бутылке спирта, который можно было продать на базаре и купить что-нибудь поесть. В 1942 году сын заболел и умер. В это время вышел приказ Сталина, по которому всех мужчин, служивших радистами, поварами и так далее, должны были заменить женщины. В Туле, в специальном батальоне, меня научили профессии повара. Меня направили в действующую армию. Непосредственно в боях я участия не принимала. Моей задачей было кормить людей. Бывало, готовлю на 400 человек, а их из боя 70 возвращается...»
Игорь Игнатьевич Фурманов, Калининград
«Хлеб получали по жребию»
«Я родился 18 августа 1926 года на станции Лионзово Витебской области. Перед войной успел закончить семь классов. А потом пришли немцы. С 1943-го я ушёл в партизанский отряд имени Чапаева, был там связным. Когда наши пришли, мне было 17. Полевым военкоматом я был призван в действующую армию.
По получении воинского снаряжения нас сразу отправили на фронт. Никаких особых проверок я за собой не заметил. Кому не доверяли, того в армию не брали. Ребят старшего возраста даже не переодевали, они в гражданской одежде были.
И в этом же месяце, как нас в действующую армию отправили, вышел приказ Сталина, чтобы молодёжь 1926–1927 года рождения, которая попала в армию, снять с фронта, так как они большие потери несли, и отправить в запасные и учебные подразделения.
Нас отправили в город Людиново Орловской области. Это более 600 километров от того, где мы находились. Мы прошли их пешком. Проходили 40 километров
в день.
В учебном лагере все занятия проходили в поле, только материальную часть пулемёта «Максим» изучали в землянках. Мы питались по третьей норме, которой явно для молодых людей было недостаточно. В поле занимались
до изнеможения, в конце занятий мало у кого оставалось сил. Тех, кто был особенно голоден, истощён, мы волоком затаскивали в землянку. Норма была: хлеба 200 грамм утром, вечером и в обед. Крупа, кусок сахара. Суп делили поровну, а хлеб получали по жребию.
Рядом с нами был госпиталь. Нас привлекали для погрузочно-разгрузочных работ. Как-то тащил я мешок с рисом для тяжелораненых. И упал вместе с этим мешком. Он порвался, два-три килограмма риса высыпалось. А после окончания разгрузки мы пошли вместе с товарищем, вместе со снегом насыпали себе этот рис в карманы и унесли в землянку. Печь там топилась кирпичная, и за ночь к утру рис распарился. Утром мы всё съели. И вкуснее этой пищи для нас не было ничего. Я и сейчас вспоминаю тот вкусный рис.
А ещё на кухню привозили картофель. Гнилой и мороженый, величиной
с грецкий орех. Засыпали в горячую воду, отмывали, а потом — в другой котёл
и варили. Случалось, что солдаты на кухне наедались недоваренной картошки, получалось не только расстройство, но и заворот кишок. Было четыре смертных случая.
Тяжёлые тыловые условия, занятия по 10–12 часов на улице, в холоде, голоде усиливали стремление молодых людей попасть на фронт. Там кормят по первой норме, дадут хорошее обмундирование, мясо. И надо побыстрей разбить врага. Патриотизм был велик.
Тяжёлые условия выдерживал не всякий человек. В «запасных» полках обучались мужчины, призванные с оккупированных территорий. Они были значительно старше нас по возрасту. Однажды 150–170 человек, около роты, совершили организованный побег из расположения части. Территорию оцепили, часть их была уничтожена, остальных судили военно-полевым трибуналом, а после был устроен показательный расстрел для всех частей.
В апреле 1945-го мне присвоили звание младший сержант и отправили
в Польшу, на передовую. Реку Нарев мы форсировали по переправе. Её бомбили самолёты, обстреливала артиллерия. Плыли перевёрнутые лодки, трупы солдат, лошадей. Страшно было. А на переправе — особенно. Земли нет, не зарыться. Мы бежали и кричали: «За Родину! За Сталина!».
Потом обстановка стабилизировалась. Мы перешли к обороне. Не было больше сил наступать. Вырыли окопы в полный профиль. Питание двухразовое, утром и вечером, пока темно: каша, американские консервы, мясо, хлеба достаточно, водка. Вдобавок — где лошадь убита, где корова. Пока мы сидели в окопах, нас возили осматривать Освенцим. Я всё это видел.
А потом началось наступление. Нас в пулемётном расчёте из семи человек осталось двое».
По получении воинского снаряжения нас сразу отправили на фронт. Никаких особых проверок я за собой не заметил. Кому не доверяли, того в армию не брали. Ребят старшего возраста даже не переодевали, они в гражданской одежде были.
И в этом же месяце, как нас в действующую армию отправили, вышел приказ Сталина, чтобы молодёжь 1926–1927 года рождения, которая попала в армию, снять с фронта, так как они большие потери несли, и отправить в запасные и учебные подразделения.
Нас отправили в город Людиново Орловской области. Это более 600 километров от того, где мы находились. Мы прошли их пешком. Проходили 40 километров
в день.
В учебном лагере все занятия проходили в поле, только материальную часть пулемёта «Максим» изучали в землянках. Мы питались по третьей норме, которой явно для молодых людей было недостаточно. В поле занимались
до изнеможения, в конце занятий мало у кого оставалось сил. Тех, кто был особенно голоден, истощён, мы волоком затаскивали в землянку. Норма была: хлеба 200 грамм утром, вечером и в обед. Крупа, кусок сахара. Суп делили поровну, а хлеб получали по жребию.
Рядом с нами был госпиталь. Нас привлекали для погрузочно-разгрузочных работ. Как-то тащил я мешок с рисом для тяжелораненых. И упал вместе с этим мешком. Он порвался, два-три килограмма риса высыпалось. А после окончания разгрузки мы пошли вместе с товарищем, вместе со снегом насыпали себе этот рис в карманы и унесли в землянку. Печь там топилась кирпичная, и за ночь к утру рис распарился. Утром мы всё съели. И вкуснее этой пищи для нас не было ничего. Я и сейчас вспоминаю тот вкусный рис.
А ещё на кухню привозили картофель. Гнилой и мороженый, величиной
с грецкий орех. Засыпали в горячую воду, отмывали, а потом — в другой котёл
и варили. Случалось, что солдаты на кухне наедались недоваренной картошки, получалось не только расстройство, но и заворот кишок. Было четыре смертных случая.
Тяжёлые тыловые условия, занятия по 10–12 часов на улице, в холоде, голоде усиливали стремление молодых людей попасть на фронт. Там кормят по первой норме, дадут хорошее обмундирование, мясо. И надо побыстрей разбить врага. Патриотизм был велик.
Тяжёлые условия выдерживал не всякий человек. В «запасных» полках обучались мужчины, призванные с оккупированных территорий. Они были значительно старше нас по возрасту. Однажды 150–170 человек, около роты, совершили организованный побег из расположения части. Территорию оцепили, часть их была уничтожена, остальных судили военно-полевым трибуналом, а после был устроен показательный расстрел для всех частей.
В апреле 1945-го мне присвоили звание младший сержант и отправили
в Польшу, на передовую. Реку Нарев мы форсировали по переправе. Её бомбили самолёты, обстреливала артиллерия. Плыли перевёрнутые лодки, трупы солдат, лошадей. Страшно было. А на переправе — особенно. Земли нет, не зарыться. Мы бежали и кричали: «За Родину! За Сталина!».
Потом обстановка стабилизировалась. Мы перешли к обороне. Не было больше сил наступать. Вырыли окопы в полный профиль. Питание двухразовое, утром и вечером, пока темно: каша, американские консервы, мясо, хлеба достаточно, водка. Вдобавок — где лошадь убита, где корова. Пока мы сидели в окопах, нас возили осматривать Освенцим. Я всё это видел.
А потом началось наступление. Нас в пулемётном расчёте из семи человек осталось двое».
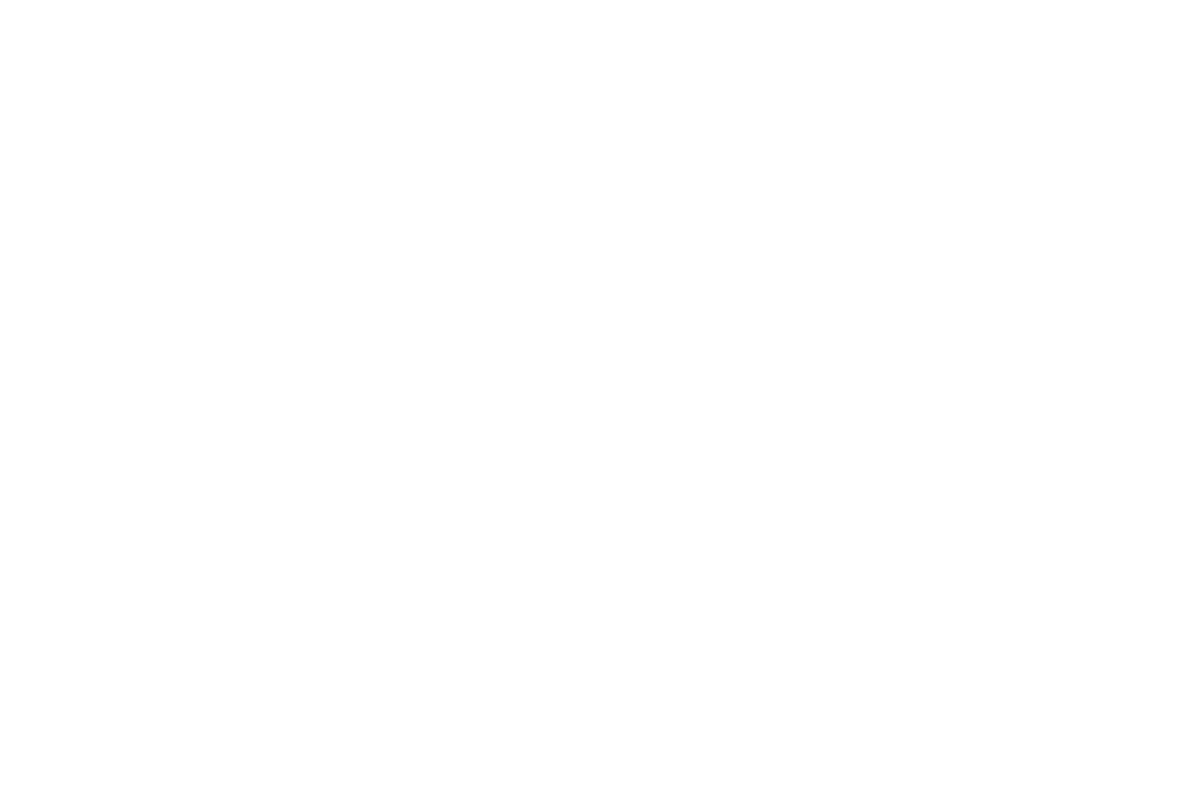
Оборонительная башня Дона, реконструкторы водружают красный флаг.
Ольга Леопольдовна Голубцова (Кляйн)
«Потом в Прегеле долго плавали мертвецы»
«Я родилась в Восточной Пруссии в 1921 году. По национальности — немка.
Я жила в Кёнигсберге. В 1938 году я вышла замуж за Рихарда Кляйна, он работал на заводе «Шихауверфт» (ныне завод «Янтарь» — прим. ред.). У нас родилось двое детей. Как-то мы с мужем шли по улице и увидели русского мужчину, из числа угнанных в Германию. Он нам показал свои рваные ботинки, из которых выглядывали его босые ноги в рваных носках. Он был к тому же голоден.
Мы не могли его позвать к себе домой, потому что нас с мужем за это могло привлечь к ответственности гестапо. Мой муж шепнул этому русскому и сделал незаметный знак, чтобы тот следовал за нами. Мы завели его к себе домой,
и я накормила его обедом. На второе был пудинг, и русский стал есть его
с хлебом. На это я ему сказала, что пудинг с хлебом не едят.
У моего мужа были туфли сорокового размера. Они жали ему ноги. Дали их померить русскому, и они ему подошли. Потом мы несколько раз встречали этого человека на улице, и он здоровался с нами. Потом он куда-то исчез.
А в 1944 году мы получили посылку из России. Пошли с мужем её получать
на Южный вокзал. Там было почтовое отделение. Посылка была странной.
Она была какой-то круглой. Мы подумали, что нам прислали бомбу. Когда посылку осторожно открыли, там оказался большой глиняный горшок с десятью килограммами топлёного свиного жира. Эту посылку нам прислал тот русский.
В нашем подъезде над нами жили евреи. Дело в том, что евреев, состоявших
в браке с немцами, не убивали. Но если у них были дети, то эти дети считались евреями и носили спереди и сзади нашитую на одежду жёлтую шестиконечную звезду. Я с ними здоровалась, хоть немцам это запрещалось. Однажды всем евреям приказали, чтобы они собрали все свои ценности и готовились в дорогу. Я не знаю, что с ними потом сделали, но прошёл слух, что у них все ценности отобрали, а самих утопили в море.
Я помню, как англо-американская авиация бомбила Кёнигсберг. В первый
раз это было 27 августа 1944 года. Как раз в день рождения моей дочери Анны. Перед налётом прилетали английские самолёты и сбрасывали листовки.
В листовках мы прочитали, чтобы население уходило из города, так как город будут бомбить. Мы подумали, что англо-американцы нас просто пугают. Но они прилетели бомбить. На город сбрасывали бомбы с фосфором и бензином. Бросали бомбу на один дом, а загоралось десять.
Люди горели заживо. Потом в Прегеле долго плавали обгоревшие мертвецы, они раздувались, и от этого река издавала зловоние.
Власти агитировали всех вступать в НСДАП (национал социалистическую рабочую партию Германии). Распространялись слухи среди населения, что тех, кто не вступит в партию, будут сжигать в крематории, которые будут оборудованы в машинах и которые будут ездить по улицам.
К моему мужу Рихарду тоже приходили партийные активисты, уговаривали его вступить в партию. Он обещал подумать. Мать Рихарда, очень набожная женщина, всё время читала Библию. Она ещё в 1943-м сказала сыну, что видела на солнце какие-то знаки и что в этой войне победят русские. Моего мужа на три недели забрали в фольксштурм. Невоенный человек, он был в солдатской форме. Так он попал к русским в плен. Его послали работать на военный завод в Ульяновске. У нас была договорённость, что после войны мы встречаемся в Западной Германии, у родственников. После войны он поехал туда, но меня там не нашёл. Я туда писала, но мои письма возвращались обратно. Он, видимо, подумал, что я погибла. А я осталась одна в Кёнигсберге с двумя детьми на руках. После войны я оказалась в городке Гильцов на территории Ольштынского воеводства Польши.
Видела из окна, как русские танкисты всем экипажем насиловали на дороге немецкую девушку. И меня изнасиловали, прямо в квартире, где я жила с детьми. Со мной дети лежали на кровати, а меня насиловали по очереди семь человек, все высшие офицеры. И другие случаи насилия немок были. Такое было до тех пор, пока не было военной комендатуры. Потом я слышала, что если изнасилованные немки жаловались на это коменданту, то насильников расстреливали.
Я уже хорошо говорила на русском. Комендант города предложил мне стать
у него переводчицей. Этот лейтенант предложил мне выйти за него замуж. Я сказала ему, что у меня есть муж. Он сказал, что у него есть жена в Ленинграде. Я не согласилась, так как знала, что ему от меня надо. Он перестал мне давать талоны на хлеб. Я шла по улице и плакала. Навстречу мне шла русская девушка. Она спросила меня, почему я плачу. Я объяснила ей. На это она сказала, что тот офицер — скотина, что она работает в столовой в сержантской школе,
и предложила пойти туда. В столовой она и повар дали мне целую сумку продуктов для моих детей. У советского повара тоже было двое детей в Смоленске. Многие немецкие женщины «выходили замуж», чтобы выжить. Потом, когда эту часть Восточной Пруссии отдали полякам, они обобрали нас и выкинули в поле. Я пошла в комендатуру, сказала, что я литовка, которая была замужем за немцем, и хочу вернуться в Кёнигсберг, где хочу найти мужа.
В Кёнигсберге я стала работать в бане кассиром. Запомнилось, как пытались пройти без очереди в баню работники НКВД (или МГБ). Бывало так, что кто-нибудь заберётся из них в ванну и сидит там больше получаса. Я тогда стучу
в дверь и говорю, что время вышло. Им это не нравилось, они говорили, что меня посадят. Но я уже убедилась, что если русский скажет: «Я тебя посажу»,
то этого как раз и не произойдёт. Это у нас, у немцев, если сказали, что посадят, то это сделают наверняка.
Однажды, когда баня уже была закрыта, в окошко кассы постучали. Это был лейтенант, новый начальник районного гражданского управления. Я ему ответила, что баня уже закрыта, что рабочий день кончился и я ему открывать не буду. Вскоре он снова пришёл в баню и принёс мне яблоки. Потом я стала готовить обеды для него и двух его друзей. Он увидел, что я нравлюсь его друзьям. Тогда он их прогнал, чтобы они сами искали себе квартиру. Вскоре уже весь район и милиция знали, что я ему нравлюсь. Но ревновал сильно. Даже когда в 1959 году умирал, и то ревновал.
В 1956 году через Красный Крест я нашла своего первого мужа в Западной Германии. У меня от моего русского лейтенанта уже двое своих сыновей было. Он, узнав о том, что я нашла своего первого мужа, сказал, что если я уеду, то он повесится. Он любил меня и моих детей. Дочь он удочерил, сына усыновил. Если он что-то покупал для семьи, то сначала покупал для меня, потом для моих детей, а потом уже для себя. У моего первого мужа в Западной Германии уже была другая семья, ребёнок. Я не поехала к нему. Зачем разрушать две семьи? В 1955-м я приняла советское гражданство.
У моего мужа, хоть мы и не были расписаны, были из-за меня неприятности. Его вызывали на заседание партийного бюро, там уговаривали меня бросить, пока не поздно, так как потом это сделать будет сложнее, и что никто не даст ему зарегистрировать брак со мной, и что я была замужем за немцем. Но мой муж никого не слушал, так как жить без меня не мог.
Мои дети скрывали, что они немцы, так как их за это травили на улице и в школе. Мои дети учились в 42-й школе. Их били. Наваливались по десять человек на одного, кричали: «Ганс, фашист, немец!». Случалось, сына запирали
в подвале. Это была месть. СС в России творила чёрт знает что, а отдуваться за них приходилось простому народу.
Когда мой сын 1944 года рождения получал в милиции советский паспорт, он попросил, чтобы его написали по национальности русским, так как он боялся дальнейшей травли».
Я жила в Кёнигсберге. В 1938 году я вышла замуж за Рихарда Кляйна, он работал на заводе «Шихауверфт» (ныне завод «Янтарь» — прим. ред.). У нас родилось двое детей. Как-то мы с мужем шли по улице и увидели русского мужчину, из числа угнанных в Германию. Он нам показал свои рваные ботинки, из которых выглядывали его босые ноги в рваных носках. Он был к тому же голоден.
Мы не могли его позвать к себе домой, потому что нас с мужем за это могло привлечь к ответственности гестапо. Мой муж шепнул этому русскому и сделал незаметный знак, чтобы тот следовал за нами. Мы завели его к себе домой,
и я накормила его обедом. На второе был пудинг, и русский стал есть его
с хлебом. На это я ему сказала, что пудинг с хлебом не едят.
У моего мужа были туфли сорокового размера. Они жали ему ноги. Дали их померить русскому, и они ему подошли. Потом мы несколько раз встречали этого человека на улице, и он здоровался с нами. Потом он куда-то исчез.
А в 1944 году мы получили посылку из России. Пошли с мужем её получать
на Южный вокзал. Там было почтовое отделение. Посылка была странной.
Она была какой-то круглой. Мы подумали, что нам прислали бомбу. Когда посылку осторожно открыли, там оказался большой глиняный горшок с десятью килограммами топлёного свиного жира. Эту посылку нам прислал тот русский.
В нашем подъезде над нами жили евреи. Дело в том, что евреев, состоявших
в браке с немцами, не убивали. Но если у них были дети, то эти дети считались евреями и носили спереди и сзади нашитую на одежду жёлтую шестиконечную звезду. Я с ними здоровалась, хоть немцам это запрещалось. Однажды всем евреям приказали, чтобы они собрали все свои ценности и готовились в дорогу. Я не знаю, что с ними потом сделали, но прошёл слух, что у них все ценности отобрали, а самих утопили в море.
Я помню, как англо-американская авиация бомбила Кёнигсберг. В первый
раз это было 27 августа 1944 года. Как раз в день рождения моей дочери Анны. Перед налётом прилетали английские самолёты и сбрасывали листовки.
В листовках мы прочитали, чтобы население уходило из города, так как город будут бомбить. Мы подумали, что англо-американцы нас просто пугают. Но они прилетели бомбить. На город сбрасывали бомбы с фосфором и бензином. Бросали бомбу на один дом, а загоралось десять.
Люди горели заживо. Потом в Прегеле долго плавали обгоревшие мертвецы, они раздувались, и от этого река издавала зловоние.
Власти агитировали всех вступать в НСДАП (национал социалистическую рабочую партию Германии). Распространялись слухи среди населения, что тех, кто не вступит в партию, будут сжигать в крематории, которые будут оборудованы в машинах и которые будут ездить по улицам.
К моему мужу Рихарду тоже приходили партийные активисты, уговаривали его вступить в партию. Он обещал подумать. Мать Рихарда, очень набожная женщина, всё время читала Библию. Она ещё в 1943-м сказала сыну, что видела на солнце какие-то знаки и что в этой войне победят русские. Моего мужа на три недели забрали в фольксштурм. Невоенный человек, он был в солдатской форме. Так он попал к русским в плен. Его послали работать на военный завод в Ульяновске. У нас была договорённость, что после войны мы встречаемся в Западной Германии, у родственников. После войны он поехал туда, но меня там не нашёл. Я туда писала, но мои письма возвращались обратно. Он, видимо, подумал, что я погибла. А я осталась одна в Кёнигсберге с двумя детьми на руках. После войны я оказалась в городке Гильцов на территории Ольштынского воеводства Польши.
Видела из окна, как русские танкисты всем экипажем насиловали на дороге немецкую девушку. И меня изнасиловали, прямо в квартире, где я жила с детьми. Со мной дети лежали на кровати, а меня насиловали по очереди семь человек, все высшие офицеры. И другие случаи насилия немок были. Такое было до тех пор, пока не было военной комендатуры. Потом я слышала, что если изнасилованные немки жаловались на это коменданту, то насильников расстреливали.
Я уже хорошо говорила на русском. Комендант города предложил мне стать
у него переводчицей. Этот лейтенант предложил мне выйти за него замуж. Я сказала ему, что у меня есть муж. Он сказал, что у него есть жена в Ленинграде. Я не согласилась, так как знала, что ему от меня надо. Он перестал мне давать талоны на хлеб. Я шла по улице и плакала. Навстречу мне шла русская девушка. Она спросила меня, почему я плачу. Я объяснила ей. На это она сказала, что тот офицер — скотина, что она работает в столовой в сержантской школе,
и предложила пойти туда. В столовой она и повар дали мне целую сумку продуктов для моих детей. У советского повара тоже было двое детей в Смоленске. Многие немецкие женщины «выходили замуж», чтобы выжить. Потом, когда эту часть Восточной Пруссии отдали полякам, они обобрали нас и выкинули в поле. Я пошла в комендатуру, сказала, что я литовка, которая была замужем за немцем, и хочу вернуться в Кёнигсберг, где хочу найти мужа.
В Кёнигсберге я стала работать в бане кассиром. Запомнилось, как пытались пройти без очереди в баню работники НКВД (или МГБ). Бывало так, что кто-нибудь заберётся из них в ванну и сидит там больше получаса. Я тогда стучу
в дверь и говорю, что время вышло. Им это не нравилось, они говорили, что меня посадят. Но я уже убедилась, что если русский скажет: «Я тебя посажу»,
то этого как раз и не произойдёт. Это у нас, у немцев, если сказали, что посадят, то это сделают наверняка.
Однажды, когда баня уже была закрыта, в окошко кассы постучали. Это был лейтенант, новый начальник районного гражданского управления. Я ему ответила, что баня уже закрыта, что рабочий день кончился и я ему открывать не буду. Вскоре он снова пришёл в баню и принёс мне яблоки. Потом я стала готовить обеды для него и двух его друзей. Он увидел, что я нравлюсь его друзьям. Тогда он их прогнал, чтобы они сами искали себе квартиру. Вскоре уже весь район и милиция знали, что я ему нравлюсь. Но ревновал сильно. Даже когда в 1959 году умирал, и то ревновал.
В 1956 году через Красный Крест я нашла своего первого мужа в Западной Германии. У меня от моего русского лейтенанта уже двое своих сыновей было. Он, узнав о том, что я нашла своего первого мужа, сказал, что если я уеду, то он повесится. Он любил меня и моих детей. Дочь он удочерил, сына усыновил. Если он что-то покупал для семьи, то сначала покупал для меня, потом для моих детей, а потом уже для себя. У моего первого мужа в Западной Германии уже была другая семья, ребёнок. Я не поехала к нему. Зачем разрушать две семьи? В 1955-м я приняла советское гражданство.
У моего мужа, хоть мы и не были расписаны, были из-за меня неприятности. Его вызывали на заседание партийного бюро, там уговаривали меня бросить, пока не поздно, так как потом это сделать будет сложнее, и что никто не даст ему зарегистрировать брак со мной, и что я была замужем за немцем. Но мой муж никого не слушал, так как жить без меня не мог.
Мои дети скрывали, что они немцы, так как их за это травили на улице и в школе. Мои дети учились в 42-й школе. Их били. Наваливались по десять человек на одного, кричали: «Ганс, фашист, немец!». Случалось, сына запирали
в подвале. Это была месть. СС в России творила чёрт знает что, а отдуваться за них приходилось простому народу.
Когда мой сын 1944 года рождения получал в милиции советский паспорт, он попросил, чтобы его написали по национальности русским, так как он боялся дальнейшей травли».
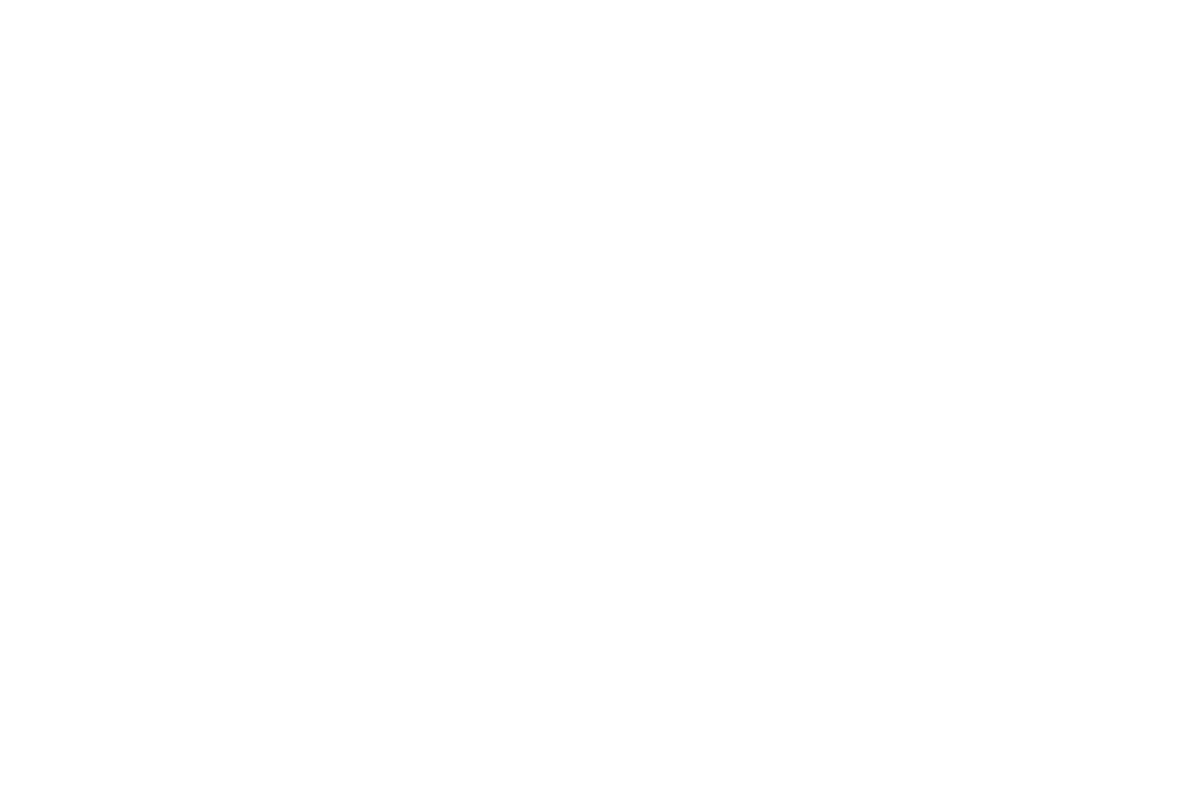
Участники реконструкции, один из которых получил «ранение» в бою.
Иван Дмитриевич Степанов, Калининград
«Мы, пацаны, даже из брошенных пушек в полях стреляли»
«Я родился в 1926 году в деревне Кировка Курской области. Всего в семье было семеро детей, я был третьим по счёту. В начале тридцатых в нашей деревне стали создавать колхоз. Отец был членом ВКП(б). Он первым вступил в колхоз, сдал туда скот. Работал, как и положено коммунисту, не щадя себя. Отец зарабатывал в год 600 трудодней. Когда приходило время получать заработанное, то отцу причиталось получить по сто грамм зерна за один трудодень. Помню, как мать, плача, причитала: «Чем я вас, детки, буду кормить?!».
В 1933-м наступил страшный голод. Много людей поумирало. Не обошло это горе и нашу семью. Сестра Наташа и брат Миша умерли от голода. Но на том наши беды не закончились.
Все крестьяне должны были выполнять план государственных поставок сельскохозяйственных продуктов. Моя старшая сестра набрала на сдачу государству ведро яиц. Об этом узнал председатель сельского совета. Вместе с продавцом магазина он решил эти яйца забрать себе. И они забрали эти яйца для своих личных целей. Шёл 1937 год. Сестра рассказала о случившемся отцу. Он пошёл к ним, стал их стыдить: «Вы же коммунисты, зачем ребёнка обижаете?». А они написали в НКВД, что отец ругал Сталина.
Рано утром приехали на подводе к дому два милиционера и с ними гражданский. Сказали: «Собирайся!». Отец собрался, сказал нам, что невиновен, и его увезли. В то утро забрали участкового милиционера Лихачёва и ещё одного человека.
Когда отца арестовали, мать от отчаяния плакала и причитала. Потом, когда она побывала в Курске и ей в тюрьме сказали, что отца там уже нет, с ней случился обморок возле самой тюрьмы. Не знаю, что она там говорила и кричала в обморочном состоянии, но её от тюрьмы увезли в психиатрическую больницу. Пробыла она там три года. Мы, пятеро детей, остались без средств к существованию. Побирались по деревням. Две старшие сестры уехали в Подольск и устроились там в школу фабрично-заводского обучения. А мы остались втроём: братишка, сестрёнка и я.
Мой братишка родился в 1933 году. Мать была почти недвижима от голода и не могла часто подходить к ребёнку. В люльке завелись черви, кожица на теле братика из-за червей даже сморщилась. Маленького братика мы кормили соской, сделанной из мякины.
В 1940-м маму выпустили из психиатрической больницы. Она приехала к нам, звала нас: «Детки, детки!». Она была коротко подстрижена. К матери мы сначала не подходили, потому что нам сказали, что она сумасшедшая. Мы просто одичали без неё. Как-то мать подавилась костью. Шею раздуло, она ничего не могла глотать. Её отправили в Курск, в больницу. Там она пролежала девять месяцев. Пока её не было, мы, голодные и холодные, чтобы не умереть с голоду, опять стали бродяжничать. Когда началась война, мать, недолеченную, снова привезли домой.
В ноябре 1941-го, когда пошёл снег, к нам в деревню пришли немцы. Ночью их обстреляли партизаны. На следующий день немцы с факелами в руках стали жечь деревню. Они просто шли по улице и просто поджигали дома. Люди бросались бежать из домов, а немцы по ним из пулемёта. Мать, босая, выскочила из дома на снег. Мы, трое детей, за ней. Мать сказала нам, чтобы мы бежали к дому лесника, а сама побежала в другую сторону. После этого следы мамы потерялись.
У лесника нас было около ста семей. Есть было нечего. Спали где попало. По ночам мы пробирались на поля и отрубали мясо от трупов коров и лошадей, которых перестреляли немцы. Дело в том, что через Курскую область при эвакуации гнали с Украины много скота. Когда немцы беженцев настигали, те скот бросали. А немцы потом скот перестреляли. Они боялись, что под прикрытием бродячих коров на них партизаны или наши войска могут напасть.
А потом мы с хромым Владимиром пошли в сожжённую деревню. У него в погребе оставались сало и крупа. Залезли мы в погреб, вдруг слышим выстрелы. Немцы по нашим следам на снегу шли. Когда они были уже рядом, по ним кто-то стал стрелять из пулемёта. Это были наши в белых маскировочных халатах. На снегу лежал один боец из их отряда. Он умирал от раны в живот. Мы с Владимиром вернулись в деревню вместе с нашими частями. Дожили там до весны. Потом приехал майор и сказал, чтобы мы уходили, так как здесь будут сильные бои. Люди стали уходить. Вместе с беженцами уходили и наши войска, которых было так много, что не видно было дорожного покрытия. Я поинтересовался у военных, были ли под нашим селом бои. Военные мне ответили, что никаких боёв не было. Я пошёл с солдатами, оставив братишку и сестрёнку у тётки. Так я оказался в армии.
В 12 километрах от Старого Оскола нас окружили немцы. Нас обстреливали из орудий, бомбили самолёты. Вся сороковая армия, как мне говорили, попала в окружение. В окружении мы были всего сутки. Пить было нечего. Солдаты мочили в трясине гимнастёрки, выжимали их в котелки, пили. Солдаты — узбеки или таджики, несмотря на артиллерийский обстрел, стали варить мясо убитых лошадей в котелках.
К концу дня к нам приехал крупный военачальник — может быть, даже генерал. Я даже сначала подумал, что это сам Ворошилов, у него вся грудь была в орденах. Он сидел на коне, в седле, покрытом ковровой тканью. Он закричал на нашего командира: «Полковник, собери мне пулемётный батальон, на прорыв пойдём!». Свой приказ он отдал исключительно матом.
Когда стемнело, мы пошли в направлении села Сорокино. Мы взяли село. А потом нас атаковали немцы. Они шли, рукава засученные, кричат что-то. Наши их подпустили и открыли по ним огонь. Они — кто куда. А потом сорганизовались, начали отбивать у наших дом за домом. Я спрятался в здании школы. Там уже были гражданские. Мы лежали на полу. Одна женщина вместе со своим грудным ребёнком решила подняться. Она сразу же была убита со своим ребёнком.
Солдаты-таджики, я потом узнал, около тысячи пятисот человек, решили сдаться в плен. Побросали оружие, подняли руки. Я вернулся в родное село. Здесь был сильный бой. На ветках деревьев висели человеческие внутренности. Жара страшная, вонь ужасная. Смотришь — лежит убитый в шинели на дороге, а под шинелью — одни кости. Мясо черви съели. За две недели одни кости оставались от человека. Или от лошади.
В зиму 1942–1943-го немцы стали отступать. У нас в деревне появился Василий по прозвищу Галей. Он командиром в Красной Армии был. У нас оружия было море. У каждого. Мы, пацаны, даже из брошенных пушек в полях стреляли.
Василий создал из нас группу, мы стали нападать на маленькие группы немцев.
Один раз к нам в хату принесли немца с обмороженными ногами. Он просил молока. Он был в звании майора. Прожил он у нас три дня. Ноги у него распухли так, что даже нельзя было снять с него сапоги. На руке у немца были маленькие золотые часы. Мой дядька предложил немцу их отдать, ведь тот всё равно умрёт. Но этот офицер вытащил из-под подушки маленький пистолет и стал грозить им дядьке. Дядька в Первую мировую был в немецком плену, знал немного по-немецки. Он сказал, что этот офицер — не немец, а итальянец.
Через три дня немцы стали отступать от села. Однажды утром я заметил на фоне снега белых лошадей, на которых сидели люди в белых маскировочных халатах. Я спрятался в стог соломы. А потом увидел у них красные звёзды на шапках-ушанках. Это были наши. Я вылез из стога. Они спросили меня: «Парень, где немцы?». Я ответил, что один в нашей хате и что у него под подушкой пистолет. Наши ворвались в дом, отняли у офицера пистолет, раздели его, разрезали сапоги, вывели к оврагу и три раза выстрелили в него. Он упал, а наши ускакали.
На следующее утро мы пошли посмотреть на убитого. Ночью был 20-градусный мороз. Подойдя к оврагу, мы увидели, что он жив. Сидит на снегу и рукой трёт подбородок. Инвалид из нашей ребячьей группы добил его из винтовки. Чтобы не мучался.
Вскоре отыскалась наша мать. Она два месяца шла от Воронежа к своей деревне. Её тогда, почти голую, подобрала наша разведка в стогу сена. На руках и ногах у неё не было пальцев — они были отморожены, и в военном госпитале их ампутировали.
Потом меня призвали в армию. В 1944 году из самых выносливых солдат нашего полка создали специальный батальон. Мы уничтожали в Литве банды националистов, власовцев, немцев.
С 1944-го по 1947-й от 1200 человек в нашем батальоне осталось 600. В 1947 году меня отправили служить в Калининград, в охрану завода «Шихау». Тут я и остался жить...»
В 1933-м наступил страшный голод. Много людей поумирало. Не обошло это горе и нашу семью. Сестра Наташа и брат Миша умерли от голода. Но на том наши беды не закончились.
Все крестьяне должны были выполнять план государственных поставок сельскохозяйственных продуктов. Моя старшая сестра набрала на сдачу государству ведро яиц. Об этом узнал председатель сельского совета. Вместе с продавцом магазина он решил эти яйца забрать себе. И они забрали эти яйца для своих личных целей. Шёл 1937 год. Сестра рассказала о случившемся отцу. Он пошёл к ним, стал их стыдить: «Вы же коммунисты, зачем ребёнка обижаете?». А они написали в НКВД, что отец ругал Сталина.
Рано утром приехали на подводе к дому два милиционера и с ними гражданский. Сказали: «Собирайся!». Отец собрался, сказал нам, что невиновен, и его увезли. В то утро забрали участкового милиционера Лихачёва и ещё одного человека.
Когда отца арестовали, мать от отчаяния плакала и причитала. Потом, когда она побывала в Курске и ей в тюрьме сказали, что отца там уже нет, с ней случился обморок возле самой тюрьмы. Не знаю, что она там говорила и кричала в обморочном состоянии, но её от тюрьмы увезли в психиатрическую больницу. Пробыла она там три года. Мы, пятеро детей, остались без средств к существованию. Побирались по деревням. Две старшие сестры уехали в Подольск и устроились там в школу фабрично-заводского обучения. А мы остались втроём: братишка, сестрёнка и я.
Мой братишка родился в 1933 году. Мать была почти недвижима от голода и не могла часто подходить к ребёнку. В люльке завелись черви, кожица на теле братика из-за червей даже сморщилась. Маленького братика мы кормили соской, сделанной из мякины.
В 1940-м маму выпустили из психиатрической больницы. Она приехала к нам, звала нас: «Детки, детки!». Она была коротко подстрижена. К матери мы сначала не подходили, потому что нам сказали, что она сумасшедшая. Мы просто одичали без неё. Как-то мать подавилась костью. Шею раздуло, она ничего не могла глотать. Её отправили в Курск, в больницу. Там она пролежала девять месяцев. Пока её не было, мы, голодные и холодные, чтобы не умереть с голоду, опять стали бродяжничать. Когда началась война, мать, недолеченную, снова привезли домой.
В ноябре 1941-го, когда пошёл снег, к нам в деревню пришли немцы. Ночью их обстреляли партизаны. На следующий день немцы с факелами в руках стали жечь деревню. Они просто шли по улице и просто поджигали дома. Люди бросались бежать из домов, а немцы по ним из пулемёта. Мать, босая, выскочила из дома на снег. Мы, трое детей, за ней. Мать сказала нам, чтобы мы бежали к дому лесника, а сама побежала в другую сторону. После этого следы мамы потерялись.
У лесника нас было около ста семей. Есть было нечего. Спали где попало. По ночам мы пробирались на поля и отрубали мясо от трупов коров и лошадей, которых перестреляли немцы. Дело в том, что через Курскую область при эвакуации гнали с Украины много скота. Когда немцы беженцев настигали, те скот бросали. А немцы потом скот перестреляли. Они боялись, что под прикрытием бродячих коров на них партизаны или наши войска могут напасть.
А потом мы с хромым Владимиром пошли в сожжённую деревню. У него в погребе оставались сало и крупа. Залезли мы в погреб, вдруг слышим выстрелы. Немцы по нашим следам на снегу шли. Когда они были уже рядом, по ним кто-то стал стрелять из пулемёта. Это были наши в белых маскировочных халатах. На снегу лежал один боец из их отряда. Он умирал от раны в живот. Мы с Владимиром вернулись в деревню вместе с нашими частями. Дожили там до весны. Потом приехал майор и сказал, чтобы мы уходили, так как здесь будут сильные бои. Люди стали уходить. Вместе с беженцами уходили и наши войска, которых было так много, что не видно было дорожного покрытия. Я поинтересовался у военных, были ли под нашим селом бои. Военные мне ответили, что никаких боёв не было. Я пошёл с солдатами, оставив братишку и сестрёнку у тётки. Так я оказался в армии.
В 12 километрах от Старого Оскола нас окружили немцы. Нас обстреливали из орудий, бомбили самолёты. Вся сороковая армия, как мне говорили, попала в окружение. В окружении мы были всего сутки. Пить было нечего. Солдаты мочили в трясине гимнастёрки, выжимали их в котелки, пили. Солдаты — узбеки или таджики, несмотря на артиллерийский обстрел, стали варить мясо убитых лошадей в котелках.
К концу дня к нам приехал крупный военачальник — может быть, даже генерал. Я даже сначала подумал, что это сам Ворошилов, у него вся грудь была в орденах. Он сидел на коне, в седле, покрытом ковровой тканью. Он закричал на нашего командира: «Полковник, собери мне пулемётный батальон, на прорыв пойдём!». Свой приказ он отдал исключительно матом.
Когда стемнело, мы пошли в направлении села Сорокино. Мы взяли село. А потом нас атаковали немцы. Они шли, рукава засученные, кричат что-то. Наши их подпустили и открыли по ним огонь. Они — кто куда. А потом сорганизовались, начали отбивать у наших дом за домом. Я спрятался в здании школы. Там уже были гражданские. Мы лежали на полу. Одна женщина вместе со своим грудным ребёнком решила подняться. Она сразу же была убита со своим ребёнком.
Солдаты-таджики, я потом узнал, около тысячи пятисот человек, решили сдаться в плен. Побросали оружие, подняли руки. Я вернулся в родное село. Здесь был сильный бой. На ветках деревьев висели человеческие внутренности. Жара страшная, вонь ужасная. Смотришь — лежит убитый в шинели на дороге, а под шинелью — одни кости. Мясо черви съели. За две недели одни кости оставались от человека. Или от лошади.
В зиму 1942–1943-го немцы стали отступать. У нас в деревне появился Василий по прозвищу Галей. Он командиром в Красной Армии был. У нас оружия было море. У каждого. Мы, пацаны, даже из брошенных пушек в полях стреляли.
Василий создал из нас группу, мы стали нападать на маленькие группы немцев.
Один раз к нам в хату принесли немца с обмороженными ногами. Он просил молока. Он был в звании майора. Прожил он у нас три дня. Ноги у него распухли так, что даже нельзя было снять с него сапоги. На руке у немца были маленькие золотые часы. Мой дядька предложил немцу их отдать, ведь тот всё равно умрёт. Но этот офицер вытащил из-под подушки маленький пистолет и стал грозить им дядьке. Дядька в Первую мировую был в немецком плену, знал немного по-немецки. Он сказал, что этот офицер — не немец, а итальянец.
Через три дня немцы стали отступать от села. Однажды утром я заметил на фоне снега белых лошадей, на которых сидели люди в белых маскировочных халатах. Я спрятался в стог соломы. А потом увидел у них красные звёзды на шапках-ушанках. Это были наши. Я вылез из стога. Они спросили меня: «Парень, где немцы?». Я ответил, что один в нашей хате и что у него под подушкой пистолет. Наши ворвались в дом, отняли у офицера пистолет, раздели его, разрезали сапоги, вывели к оврагу и три раза выстрелили в него. Он упал, а наши ускакали.
На следующее утро мы пошли посмотреть на убитого. Ночью был 20-градусный мороз. Подойдя к оврагу, мы увидели, что он жив. Сидит на снегу и рукой трёт подбородок. Инвалид из нашей ребячьей группы добил его из винтовки. Чтобы не мучался.
Вскоре отыскалась наша мать. Она два месяца шла от Воронежа к своей деревне. Её тогда, почти голую, подобрала наша разведка в стогу сена. На руках и ногах у неё не было пальцев — они были отморожены, и в военном госпитале их ампутировали.
Потом меня призвали в армию. В 1944 году из самых выносливых солдат нашего полка создали специальный батальон. Мы уничтожали в Литве банды националистов, власовцев, немцев.
С 1944-го по 1947-й от 1200 человек в нашем батальоне осталось 600. В 1947 году меня отправили служить в Калининград, в охрану завода «Шихау». Тут я и остался жить...»
Текст: Александр Адерихин
Дизайн и верстка: Александр Скачко
Фото: Александр Подгорчук
Дизайн и верстка: Александр Скачко
Фото: Александр Подгорчук
По материалам Государственного архива Калининградской области
